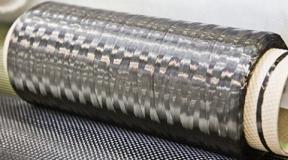Скачать краткое содержание монтескье персидские письма. "Персидские письма" (Монтескье): описание и анализ романа
Монтескье Шарль Луи
Предисловие
Я не предпосылаю этой книге посвящения и не прошу для нее покровительства: если она хороша, ее будут читать, а если плоха, то мне мало дела до того, что у нее не найдется читателей.
Я отобрал эти письма, чтобы испытать вкус публики: у меня в портфеле есть много и других, которые я мог бы предложить ей впоследствии.
Однако я это сделаю только при условии, что останусь неизвестным, а с той минуты, как мое имя откроется, я умолкну. Мне знакома одна женщина, которая отличается довольно твердой походкой, но хромает, как только на нее посмотрят. У самого произведения достаточно изъянов; зачем же предоставлять критике еще и недостатки собственной моей особы? Если узнают, кто я, станут говорить: «Книга не соответствует его характеру; ему следовало бы употреблять время на что-нибудь лучшее; это недостойно серьезного человека». Критики никогда не упускают случая высказать подобные соображения, потому что их можно высказывать, не напрягая ума.
Персияне, которыми написаны эти письма, жили в одном со мной доме; мы вместе проводили время. Они считали меня человеком другого мира и поэтому ничего от меня не скрывали. Действительно, люди, занесенные из такого далека, не могли уже иметь тайн. Они сообщали мне большую часть своих писем; я их списывал. Мне попалось даже несколько таких, с которыми персияне остереглись бы познакомить меня: до такой степени эти письма убийственны для персидского тщеславия и ревности.
Я исполняю, следовательно, только обязанности переводчика: все мои старания были направлены на то, чтобы приспособить это произведение к нашим нравам. Я по возможности облегчил читателям азиатский язык и избавил их от бесчисленных высокопарных выражений, которые до крайности наскучили бы им.
Но это еще не все, что я для них сделал. Я сократил пространные приветствия, на которые восточные люди тороваты не меньше нашего, и опустил бесконечное число мелочей, которым так трудно выдержать дневной свет и которым всегда следует оставаться личным делом двух друзей.
Меня очень удивляло то обстоятельство, что эти персияне иной раз бывали осведомлены не меньше меня в нравах и обычаях нашего народа, вплоть до самых тонких обстоятельств, они подмечали такие вещи, которые - я уверен ускользнули от многих немцев, путешествовавших по Франции. Я приписываю это их долгому пребыванию у нас, не считая уж того, что азиату легче в один год усвоить нравы французов, чем французу в четыре года усвоить нравы азиатов, ибо одни настолько же откровенны, насколько другие замкнуты.
Обычай позволяет всякому переводчику и даже самому варварскому комментатору украшать начало своего перевода или толкования панегириком оригиналу: отметить его полезность, достоинства и превосходные качества. Я этого не сделал: о причинах легко догадаться. А самая уважительная из них та, что это было бы чем-то весьма скучным, помещенным в месте, уже самом по себе очень скучном: я хочу сказать - в предисловии.
ПИСЬМО I. Узбек к своему другу Рустану в Испагань
Мы пробыли в Коме{1} только один день. Помолившись у гробницы девы{2}, давшей миру двенадцать пророков, мы вновь пустились в путь и вчера, на двадцать пятый день после нашего отъезда из Испагани, прибыли в Тавриз{3}.
Мы с Рикой, пожалуй, первые из персиян, которые любознательности ради покинули отечество и, предавшись прилежным поискам мудрости, отказались от радостей безмятежной жизни.
Мы родились в цветущем царстве, но мы не верили, что его пределы в то же время пределы наших знаний и что свет Востока один только и должен нам светить.
Сообщи мне, что говорят о нашем путешествии; не льсти мне: я и не рассчитываю на общее одобрение. Посылай письма в Эрзерум{4}, где я пробуду некоторое время.
Прощай, любезный Рустан; будь уверен, что, в каком бы уголке света я ни очутился, я останусь твоим верным другом.
Из Тавриза, месяца Сафара{5} 15-го дня, 1711 года
ПИСЬМО II. Узбек к главному черному евнуху в свой сераль в Испагани
Ты верный страж прекраснейших женщин Персии; тебе я доверил то, что у меня есть самого дорогого на свете; в твоих руках ключи от заветных дверей, которые отворяются только для меня. В то время как ты стережешь это бесконечно любезное моему сердцу сокровище, оно покоится и наслаждается полной безопасностью. Ты охраняешь его в ночной тиши и в дневной сутолоке; твои неустанные заботы поддерживают добродетель, когда она колеблется. Если бы женщины, которых ты стережешь, вздумали нарушить свои обязанности, ты бы отнял у них всякую надежду на это; ты бич порока и столп верности.
Ты повелеваешь ими и им повинуешься; ты слепо исполняешь все их желания и столь же беспрекословно подчиняешь их самих законам сераля. Ты гордишься возможностью оказывать им самые унизительные услуги; ты с почтением и страхом подчиняешься их законным распоряжениям; ты служишь им, как раб их рабов. Но когда возникают опасения, что могут пошатнуться законы стыда и скромности, власть возвращается к тебе и ты повелеваешь ими, словно я сам.
Помни всегда, из какого ничтожества - когда ты был последним из моих рабов - вывел я тебя, чтобы возвести на эту должность и доверить тебе усладу моего сердца. Соблюдай глубокое смирение перед теми, кто разделяет мою любовь, но в то же время давай им чувствовать их крайнюю зависимость. Доставляй им всевозможные невинные удовольствия; усыпляй их тревогу; забавляй их музыкой, плясками, восхитительными напитками; увещевай их почаще собираться вместе. Если они захотят поехать на дачу, можешь повезти их туда, но прикажи хватать всех мужчин, которые предстанут перед ними по пути. Призывай их к чистоплотности - этому образу душевной чистоты. Говори с ними иногда обо мне. Мне хотелось бы снова увидеть их в том очаровательном месте, которое они украшают собою. Прощай.
Из Тавриза, месяца Сафара 18-го дня, 1711 года
ПИСЬМО III. Зашли к Узбеку в Тавриз
Мы приказали начальнику евнухов отвезти нас на дачу; он подтвердит тебе, что с нами не случилось никаких происшествий. Когда нам пришлось переправляться через реку и выйти из носилок, мы, по обычаю, пересели в ящики; двое рабов перенесли нас на плечах, и мы избегли чьих бы то ни было взоров.
Как могла бы я жить, дорогой Узбек, в твоем испаганском серале, в тех местах, которые, непрестанно вызывая в моей памяти прошедшие наслаждения, каждый день с новой силой возбуждали мои желания? Я бродила из покоя в покой, всюду ища тебя и нигде не находя, но всюду встречая жестокое воспоминание о прошлом счастье. То оказывалась я в горнице, где в первый раз в жизни приняла тебя в свои объятия, то в той, где ты решил жаркий спор, загоревшийся между твоими женами: каждая из нас притязала быть красивее других. Мы предстали пред тобой, надев все украшения и драгоценности, какие только могло придумать воображение. Ты с удовольствием взирал на чудеса нашего искусства; ты радовался, видя, как увлекает нас неуемное желание понравиться тебе. Но вскоре ты пожелал, чтобы эти заимствованные чары уступили место прелестям более естественным; ты разрушил все наше творение. Нам пришлось снять украшения, уже докучавшие тебе; пришлось предстать перед тобою в природной простоте. Я откинула всякую стыдливость: я думала только о своем торжестве. Счастливец Узбек! Сколько прелестей представилось твоим очам! Мы видели, как долго переходил ты от восторга к восторгу: твоя душа колебалась и долго ни на чем не могла остановиться; каждая новая прелесть требовала от тебя дани: в один миг мы все были покрыты твоими поцелуями; ты бросал любопытные взгляды на места самые сокровенные; ты заставлял нас принимать одно за другим тысячу различных положений; ты без конца отдавал новые распоряжения, и мы без конца повиновались. Признаюсь, Узбек: желание понравиться тебе подсказывалось мне страстью еще более живой, чем честолюбие. Я понимала, что незаметно становлюсь владычицей твоего сердца; ты завладел мною; ты меня покинул; ты вернулся ко мне, и я сумела тебя удержать: полное торжество выпало на мою долю, а уделом моих соперниц стало отчаяние. Нам с тобою показалось, что мы одни на свете; окружающее было недостойно занимать нас. О! Зачем небу не угодно было, чтобы мои соперницы нашли в себе мужество быть простыми свидетельницами пылких выражений любви, которые я получила от тебя! Если бы они видели изъявления моей страсти, они почувствовали бы разницу между их любовью и моей: они бы убедились, что если и могли соперничать со мною в прелестях, то никак не могли бы состязаться в чувствительности...
Обложка "Персидских писем" Монтескье в издании 1754
За Вольтером в Англию на поклонение ее учреждениям явился Монтескье. Недовольство, отрицательное отношение к своему должно было прежде всего высказываться в сатире на современное состояние общества, на существовавшие учреждения; умы более сильные не могли останавливаться на отрицании; в искании чего-нибудь положительного, более питательного для мысли они обращались к истории, именно к древней, потому что знали ее лучше и потому что видели в ней явление, противоположное явлениям своего настоящего. Но древняя история не могла удовлетворить их, и в настоящем они влеклись к острову, знаменитому своими свободными учреждениями, своим благосостоянием и результатами свободного движения мысли.
Монтескье начал сатирою на французское государство и общество, потом остановился на древней истории, на самом любопытном вопросе: как возникла и почему пала древняя свобода, древняя республика, и наконец написал знаменитый «Дух законов», отправившись от английских учреждений, для которых начертал теорию. Грех юности Монтескье – это «Персидские письма», сатира в очень замысловатой, удобной форме: человек из совершенно другого мира, азиатец, персиянин приехал в Париж, наблюдает и описывает то, что особенно поразило его внимание. Что же особенно поразило персиянина, т. е. что особенно было на сердце у тогдашних либералов, к которым принадлежал автор «Персидских писем»?
Если сильная власть Людовика XIV была естественною реакцией смутам Фронды, то либеральные движения французского общества в описываемое время были реакциею злоупотреблениям власти при великом короле, и сатира, явившаяся выражением этих либеральных движений, разумеется, не отнесется благодушно к человеку, злоупотребившему своею властию. Персиянин приехал во Францию в последнее время царствования Людовика XIV и пишет: «Французский король стар; говорят, что он в высочайшей степени обладает талантом заставлять повиноваться себе; он часто говорит, что изо всех образов правления турецкий или персидский более всего ему нравится». Персиянин нашел неразрешенными противоречия в характере Людовика: «У него министр 18 лет, а любовница – 80; он любит свою религию, но не терпит таких, которые говорят, что надобно соблюдать ее во всей строгости; он бежит шума городов и мало общителен, а между тем с утра до ночи занят только тем, чтобы заставлять говорить о себе; он любит трофеи и победы, но точно так же неприятно видеть ему хорошего генерала в челе своих войск, как ив челе неприятельских; только ему удалось в одно время иметь столько богатств, сколько ни один государь не может надеяться иметь, и быть угнетенным такою бедностию, какой частный человек не может выдержать. Он любит награждать людей, которые ему служат; но он также щедро награждает усердие или, лучше сказать, праздность своих придворных, как и трудные походы своих генералов; часто он предпочитает человека, который его раздевает или служит за столом, другому, который берет неприятельские города или одерживает победы. Он не думает, что верховная власть должна чем-нибудь стесняться в раздаче милостей, и, не обращая внимания на то, достоин ли тот человек, осыпаемый его милостями, думает, что его выбор делает его достойным. Он великолепен, особенно в своих постройках: в садах его дворца больше статуй, чем граждан в большом городе».
Выходку против уничтожения Нантского эдикта автор прикрыл следующим письмом персиянина: «Ты знаешь, мирза, что министры шаха Солимана приняли намерение изгнать из Персии всех армян или заставить их обратиться в магометанство, думая, что государство наше будет постоянно осквернено, если сохранит в своих недрах этих неверных. Неизвестно, как дело не удалось; случай занял место разума и политики и спас государство от опасности большей, чем если б оно потерпело три поражения и потеряло два города. Изгнанием армян Персия в один день лишилась бы всех купцов и всех ремесленников. Я уверен, что великий шах Аббас скорей отрубил бы себе обе руки, чем подписал бы такой указ, и, отсылая к Моголу и другим владельцам Индии самых промышленных своих подданных, он счел бы, что отдает им половину своего государства. Уже и так преследования, которые терпели у нас гебры, заставили их толпами бежать в Индию и лишили Персию трудолюбивого народа, который один был в состоянии побелить бесплодие нашей почвы. Оставалось благочестию нанести второй удар: уничтожить промышленность, а через это государство падало само собою, и с ним необходимо падала та самая религия, которую хотели сделать цветущею».
Тут автор сходит с высоты терпимости и унижается до соображения, что различие религий полезно для государства: «Замечено, что жители, исповедующие веру терпимую, бывают полезнее своему отечеству, чем те, которые исповедуют веру господствующую, ибо, удаленные от почестей, имея возможность отличиться только богатством, они стараются приобрести его трудом и потому не избегают занятий самых трудных. Так как все религии содержат правила, полезные для общества, то хорошо, когда эти правила ревностно соблюдаются; но самое лучшее средство возбудить эту ревность – многоразличие религий. Исповедующие разные религии – это соперники, которые не прощают ничего друг другу. Каждый боится сделать что-нибудь бесчестное для его партии и выставить ее на позор предметом порицания для партии противной. Пусть говорят, что не в интересах государя терпеть многие религии: если бы секты всего мира собрались в одно государство, то они не повредили бы государству, потому что каждая из них предписывает повиновение властям. Правда, что история наполнена религиозными войнами, но они проистекали не от многоразличия религий, но от духа нетерпимости религии господствующей».
Мы видим еще здесь детскую поверхностность взгляда при решении одного из самых важных вопросов в жизни человечества; поклонник разума совершенно равнодушен к религии, чужд религиозного чувства, а между тем позволяет себе толковать о религии и сейчас же, разумеется, несет наказание искажением истории, на которую решился сослаться: как будто новая религия, проповедники которой отличаются сильным убеждением, может оставить в покое другие религии, пока не приобретет господства, пока не утвердит, по убеждениям ее поклонников, истинного отношения человека к Богу; да и эти самые господа – проповедники поклонения разуму человеческому, требовавшие сначала только терпимости, жаловавшиеся на гонение от церковной и светской власти, – ведь они требовали ни больше ни меньше как права проповедовать свое учение, разрушающее все религии, а разве неизвестно, что они наконец приобрели господство, и что же, отличались они терпимостию во время этого господства? Эти люди не хотели понять, что если бесчестно требовать от отдельного человека полного равнодушия и спокойствия, когда в его глазах принимаются все меры против его благосостояния и существования, то также бесчестно требовать этого и от целых учреждений.
По поводу смерти Людовика XIV персиянин пишет: «Нет более монарха, который царствовал так долго; при жизни он заставлял много говорить о себе, все смолкли при его смерти». По поводу преемника Людовика XIV персиянин указывает на одно из самых сильных зол, которым страдала дряхлая французская монархия: «Говорят, что нельзя узнать характер западного короля до тех пор, пока он не прошел чрез два великие испытания – любовницу и духовника. В молодости короля эти две силы соперничают друг с другом, но они примиряются и заключают союз во время его старости. Когда я приехал во Францию, то покойный король находился совершенно во власти женщин. Я слышал, как одна женщина говорила: «Непременно надобно сделать что-нибудь для этого молодого полковника, его храбрость мне известна, я поговорю о нем с министром». Другая говорила: «Удивительно, что об этом молодом аббате забыли; ему надобно быть епископом, он из хорошей фамилии, и я ручаюсь за его нравственность». И не воображай, чтоб эти дамы были в большой милости у короля: они, может быть, во всю жизнь не говорили с ним двух раз. Дело в том, что каждый человек, занимающий сколько-нибудь значительную должность при дворе, в Париже или в провинциях, имеет женщину, чрез руки которой он получает все милости и которая защищает его от последствий делаемых им несправедливостей. Эти женщины находятся в сношениях друг с другом и образуют род республики, которой члены, вечно деятельные, помогают и служат друг другу. Кто видит деятельность министров, начальствующих лиц, прелатов и не знает женщин, которые ими управляют, все равно что видит машину в ходу, но не имеет понятия о пружинах, приводящих ее в движение».
Но от Монтескье с товарищами как от поклонников разума мы должны ждать самых сильных выходок против другой власти, другого авторитета – церковного. Персиянин называет французского короля великим волшебником, потому что он может заставить своих подданных верить, что одна монета имеет ценность двух таких же; но есть еще волшебник посильнее – папа, который может заставить народ верить вещам менее имоверным. В этих выходках Монтескье для исторического изучения важны не пошлые выходки против христианства и религии вообще, но выходки против тех слабых мест современной Французской Церкви, которые защитники религии защищать не могли и которые увеличивали силу враждебного Церкви направления. Епископы, пишет персиянин, когда находятся в собрании, то поставляют религиозные правила, когда же действуют порознь, то занимаются только разрешениями от соблюдения этих правил. Монтескье, разумеется, не упустил случая посмеяться на самом твердом основании насмешки: на противоположности слова и дела, проповеди и проповедника. Персиянин не мог не заметить толстенного человека в черном платье, но печальный цвет одежды находился в противоположности с веселым видом и цветущим лицом господина, причесанного с большею тщательностью, чем причесывались дамы; персиянин пишет, что этот господин отлично знает слабости женщин, и женщины знают его собственную слабость.
Персиянин заметил, что гуляки содержат во Франции огромное количество женщин вольного поведения, а люди набожные содержат великое множество дервишей, у которых три обета – повиновение, бедность и целомудрие, но из этих обетов соблюдается только первый; скорее султан откажется от своих великолепных титулов, чем французские дервиши от титула бедности, ибо титул бедных служит им главным препятствием быть действительно бедными. Персиянин заметил и метко описал это печальное состояние общества, когда многие, не отказываясь от религии, перестали быть религиозными: «Я не заметил между христианами этого живого религиозного убеждения, которое господствует между магометанами. Религия у них составляет для всех предмет спора; придворные, военные, даже женщины поднимаются против духовенства и требуют у него доказательств тому, во что решились не верить. Это решение составилось не вследствие убеждений разума, не вследствие того, что они потрудились исследовать истину или ложность отвергаемой ими религии, – это бунтовщики, которые почувствовали иго и свергли его прежде, чем сознали. Поэтому они так же слабы в своем неверии, как и в своей вере; они живут в приливе и отливе, которые носят их от одного к другой».
Персиянин заметил отсутствие жизни и в другом сословии, которое прежде стояло наверху по своим личным качествам, а теперь, утратив эти качества, старалось напомнить о своем значении внешними приемами, способными производить сильное раздражение и ускорить переворот. Приятель персиянина сказал ему, что повезет его к одному из самых знатных и представительных людей. «Что это значит? – спросил мнимый азиатец. – Это значит, что он учтивее, ласковее других?» – «Нет, – отвечает приятель, – это значит, что он дает чувствовать каждую минуту свое превосходство над всеми теми, которые к нему приближаются». – «Я увидал, – пишет персиянин, – маленького человечка, которому не мог не удивиться: так он был горд, с таким высокомерием нюхал табак, так громко сморкался, с такою величественною медленностию плевал, ласкал своих собак так оскорбительно для людей! Надобно нам иметь слишком гадкую натуру, чтобы позволить себе делать сотню маленьких обид людям, которые ежедневно приходят к нам с заявлением своего доброго расположения». Не пощажена и новая денежная аристократия. Персиянин осведомляется у своего приятеля: «Кто это человек, который так много говорит об обедах, данных им знати, который так близок с вашими герцогами, который так часто говорит с вашими министрами? Должно быть, это человек очень значительный; но у него такая пошлая физиономия, что не делает чести людям значительным, к тому же это человек невоспитанный».– «Это откупщик, – отвечал приятель, – он настолько выше других по своему богатству, насколько ниже по происхождению. Он большой наглец, как вы видите, но у него превосходный повар, и он ему благодарен: вы слышали, как он целый день его расхваливал?»
Но всего лучше вскрыта одна из главных причин приближавшегося переворота в указаниях на безнравственность тогдашнего французского общества. Персиянин разговорился с одним из господ, счастливых с женщинами. «У меня нет другого занятия, – говорил этот господин, – как привести в бешенство мужа или привести в отчаяние отца; нас несколько таких молодых людей, и мы разделили Париж, который интересуется нашим малейшим приключением». – «Что сказать о стране, – пишет по этому поводу персиянин, – что сказать о стране, где терпят подобных людей, где неверность, похищение, вероломство и неправда ведут к знаменитости, где уважают человека, который отнимает дочь у отца, жену у мужа? Здесь мужья смотрят на неверность своих жен, как на неизбежные удары судьбы. Ревнивый муж считается помехою всеобщего веселья, безумцем, который хочет пользоваться солнечным светом за исключением всех других. Игра в общем употреблении, быть игроком – значит иметь почетное положение в обществе. Женщины особенно склонны к игре».
Персиянин указывает признак гниения общества в толпе людей праздных, живущих болтовней, занятых только деланием визитов и посещением публичных мест. Один из таких людей умер от усталости, и на могиле его была начертана следующая эпитафия: «Здесь покоится тот, кто никогда не знал покоя: он присутствовал на 530 похоронах, на 2680 крестинах; пенсии, с которыми он поздравлял своих друзей, простираются до 2 600 000 ливров; путь, который он совершал по мостовой, до 9600 стадий, за городом до 36 000. Разговор его был занимателен; он имел в запасе 365 рассказов, кроме того, 118 апофегм, заимствованных из творений древних».
Персиянин неблагосклонно отнесся к литературе и литераторам. Понятно, что отрицательному отношению к общественному строю должно было соответствовать отрицательное отношение к литературе, выражавшей этот строй и служившей ему; вызывалась новая литература, которая должна была выражать и служить новым потребностям, – литература с новыми политическими тенденциями, стремящаяся разрушать старое, пересоздать общество на новых началах; литература, писатели, не имевшие таких тенденций, считались пустыми, а имевшие тенденции другого рода – вредными. Персиянин оскорбляется тем, что люди, считающие себя умниками, не хотят быть полезными обществу и упражняют свои таланты в пустяках; например, персиянин застал их в пылу спора о самом пустом предмете, именно о степени достоинства одного старого греческого поэта, которого родина и время смерти не известны; спор шел о степени достоинства, ибо все были убеждены, что это поэт превосходный. Выходка Монтескье против споров о достоинстве Гомера была выходкою против всего того направления, которое господствовало с эпохи Возрождения, когда древняя греко-римская жизнь и литература были на первом месте. «Страсть большей части французов, –пишет персиянин, –быть умниками и составлять книги, тогда как ничего не может быть хуже этого. Природа мудро распорядилась, чтобы человеческие глупости были преходящими, а книги дают им бессмертие! Глупцу мало того, что наскучивает всем тем, которые живут вместе с ним: он хочет мучить все будущее поколение, он хочет, чтобы потомство знало, что он жил и что был глуп».
Но больше всего в «Персидских письмах» достается поэтам, и понятно почему: никто так не прославил неприятного теперь века Людовика XIV, как поэты; их произведения сделались неотъемлемым достоянием народа, его красою и гордостью, а что сделали они для того воспитания или перевоспитания народа, какого хотел Монтескье с товарищами? В одном обществе персиянин встретил человека дурно одетого, делающего гримасы, говорящего каким-то странным языком. Когда он осведомился, кто это, то ему отвечали: поэт, а поэты – самые смешные люди на свете, поэтому их не щадят, их обдают презрением. В другой раз персиянин вошел в библиотеку; провожатый указал ему на отдел книг и сказал: это все поэты, т. е. авторы, которых ремесло состоит в том, чтобы мешать здравому смыслу и обременять ум украшениями, как некогда обременяли женщин нарядами; провожатый сделал особенно злую выходку против лирических поэтов, которых искусство, по его словам, состоит в гармонической бессмыслице.
Кроме общих причин, заключавшихся в характере времени, собственная природа Монтескье участвовала в составлении такого отзыва о поэтах. Несмотря на легкий, насмешливый характер «Персидских писем», в их авторе виден уже человек, который не может освободиться от серьезных вопросов, от серьезных дум над общественными явлениями. Он уже возбуждает вопрос о пользе и вреде цивилизации и старается разрешить его. Один персиянин оспаривает пользу цивилизации. «Я слышал, – пишет он, – что изобретение бомб отняло свободу у всех народов Европы: государи, не будучи более в состоянии вверять охрану крепости гражданам, которые сдались бы при первой бомбе, получили предлог содержать регулярные войска, с помощию которых поработили потом своих подданных. После изобретения пороха нет более неприступных крепостей, т. е. нет более на земле убежища против несправедливости и насилия. Я трепещу при мысли, что откроют еще новое средство истреблять людей и целые народы. Ты читал историков; обрати внимание на то, что все государства основались во время невежества и пали вследствие излишнего занятия искусствами. Недавно я в Европе, но уже слышал от разумных людей о свирепствах химии: это четвертый бич, истребляющий людей, но истребляющий постоянно, тогда как война, мор и голод истребляют большие массы, но после долгих промежутков времени. К чему послужило изобретение компаса и открытие стольких новых народов, которые сообщили нам более свои болезни, чем богатства? Это изобретение было гибелью для открытых стран: целые народы были истреблены, оставшиеся обращены в рабов».
«Или ты не думаешь того, что говоришь, – отвечает другой персиянин, – или ты поступаешь лучше, чем думаешь. Ты покинул отечество для науки – и ты презираешь просвещение? Подумал ли ты о варварском и несчастном положении, в какое мы повергнуты потерею образования? Ты боишься, что выдумают какое-нибудь новое средство истребления. Нет: если пагубное изобретение явится, то оно будет запрещено народным правом, и единодушное соглашение народов погубит его. Для государей нет выгоды делать завоевания подобными средствами: они должны искать подданных, а не земли. Ты жалуешься, что нет более неприступных крепостей: значит, ты жалеешь, что теперь войны оканчиваются скорее, чем прежде. Ты должен был заметить, читая историю, что, со времени изобретения пороха, битвы стали менее кровопролитны, чем прежде, ибо почти не бывает более рукопашных боев. Когда говорят, что искусства делают людей изнеженными, то здесь речь не идет, по крайней мере, о людях, которые занимаются искусством, ибо они никогда не бывают праздны, а праздность более всех пороков истребляет мужество. В стране образованной люди, которые пользуются удобствами от известного искусства, принуждены заниматься другим искусством, если не хотят видеть себя в постыдной бедности, следовательно, праздность и изнеженность несовместимы с искусствами. Париж, быть может, самый чувственный город в мире, нигде более не утончают удовольствий; но в нем же ведут и самую трудовую жизнь. Чтоб один человек жил роскошно, сотня других должна работать без устали. Одна женщина вздумала, что ей надобно явиться в известном обществе в таком-то наряде, и вот с этой минуты пятьдесят ремесленников уже не спят более и не имеют более времени есть и пить; она приказывает – и ей повинуются скорее, чем нашему монарху, ибо интерес есть самый могущественный монарх на свете. Эта страсть к труду, страсть к обогащению идет из сословия в сословие, от ремесленников до вельмож, овладевает целым народом, среди которого только и видишь труд, промышленность. Где же изнеженный народ, о котором ты толкуешь?» Дело начато слабо, поверхностно, но начато.
Будущий автор «духа законов» делает сильную выходку против господства римского права во Франции, выходку, также знаменующую пробуждение народности. «Кто может подумать, – пишет персиянин, – чтобы королевство самое древнее и самое могущественное в Европе уже десять веков руководилось чужими законами? Если бы еще французы были покорены, то это легко было бы понять, но они завоеватели. Они покинули древние законы, изданные их первыми королями в общих собраниях народа, и, что всего страннее, римские законы, которые они приняли вместо своих, были изданы в то же время. И чтобы заимствование было полное, и чтобы весь здравый смысл пришел изчужа, они еще взяли все папские постановления и сделали их частию своего права: новый вид рабства. Это обилие чужих натурализованных законов подавляет правосудие и судей; но эти томы законов ничто в сравнении с страшным войском глоссаторов, комментаторов, компиляторов – людей столь же бедных здравым смыслом, сколько богатых Числом своим».
Автор по поводу исторической библиотеки, которую показывают персиянину, делает краткий очерк или, лучше, краткий отзыв об истории европейских государств. О Германии автор выражается так: «Это единственное государство в мире, которое не ослабевает от разделения, которое укрепляется по мере потерь своих; медленное в пользовании своими успехами, оно становится неодолимым вследствие своих поражений». В истории Франции Монтескье видит только историю усиления королевской власти. В английской истории он видит «свободу, постоянно порождающуюся из огня междоусобий и мятежей; короля, постоянно колеблющегося на престоле непоколебимом; народ нетерпеливый, мудрый в самом бешенстве своем». Польша так дурно пользуется своею свободою и правом избрания королей, что как будто хочет этим утешить соседние народы, потерявшие и ту, и другое. О государствах скандинавских ни слова в этом очерке, по неумению сказать о них хотя что-нибудь; но России, благодаря Петру Великому, посвящено целое письмо, полученное персиянином, находящимся в Париже, от приятеля, находившегося по дипломатическим поручениям в России.
Собравши кой-какие сведения, казавшиеся ему характеристичными для изображения допетровской России, Монтескье говорит о Петре: «Царствующий государь захотел все переменить; у него были большие столкновения с подданными насчет бороды, с духовенством и монахами – насчет их невежества. Он старается о процветании искусств и не упускает ничего, чтобы в Европе и Азии прославить народ свой, до сих пор забытый. Беспокойный, в беспрестанном волнении, блуждает он в областях своего обширного государства, оставляя повсюду следы своей врожденной строгости. Он покидает свою землю, как будто бы она была тесна для него, и ищет в Европе других областей, других государств».
«Персидские письма» были напечатаны в Голландии в 1721 году. Во Франции автор, молодой президент бордосского парламента, не был обеспокоен: Франциею правил в это время регент, герцог Орлеанский, который не чувствовал в себе никакого побуждения восставать ни за духовенство, ни за память Людовика XIV. В 1729 году, когда Монтескье понадобилось вступить в члены Французской академии и когда автор «Персидских писем» должен был ожидать препятствий от правителя с другим характером, от кардинала Флери, он приписал выходки против религии вине голландских издателей и представил Флери очищенный экземпляр. Монтескье продал свое место президента в парламенте, предпринял после этого долгое путешествие по Европе и по возвращении во Францию в 1734 году издал «Рассуждение о причинах величия и падения римлян». Здесь Монтескье указал на значение хорошего воспитания, хорошей школы для народа, значение постоянного труда, постоянного напряжения сил, развивающего их, хотя и не мог освободиться от одностороннего взгляда, что только бедность поддерживает нравственность народную, а богатство ведет неминуемо к падению; он указывает на пользу для римлян от продолжительности войн, которые должны были вести они с соседними городами, от упорного сопротивления последних. «Если бы римляне быстро покорили все соседние города, то они были бы уже испорченным народом во время нашествия Пирра, галлов и Аннибала и, по общему закону, слишком быстро перешли бы от бедности к богатству, от богатства к порче нравов, Но Рим, делая постоянно усилия и находя постоянно препятствия, давал чувствовать свое могущество, не имея возможности распространять его, и в небольшой сфере упражнялся в добродетелях, долженствовавших стать столь пагубными для вселенной».
Переходя к внутренним причинам силы Рима, Монтескье забывает то, что говорил прежде в «Персидских письмах»: о пользе цивилизации, о значении труда и его усилении при разделении занятий, о том, что праздность более всего портит нравы. Теперь он говорит, что сила древних республик основывалась на равном разделении земель, на том, что большинство народонаселения состояло из воинов и земледельцев, что увеличение числа ремесленников вело к порче, ибо ремесленники – народ робкий и испорченный, причем не отделяет рабов от ремесленников. При объяснении борьбы между патрициями и плебеями Монтескье обходит все необходимые подробности и объясняет дело просто завистью и ненавистью простого народа к знати. Причиною падения Рима было, во-первых, то, что легионы, начавши вести войну вне пределов Италии, потеряли гражданский характер и стали смотреть на себя как на войско того или другого полководца; во-вторых, вследствие того, что право римского гражданства было распространено на италийские народы, Рим наполнился гражданами, которые принесли свой гений, свои интересы и свою зависимость от какого-нибудь могущественного патрона. Город потерял свою целостность; Рим перестал быть тем для своих граждан, чем был прежде; римский патриотизм, римские чувства исчезли. Честолюбцы приводили в Рим целые города и народы для произведения смут при подаче голосов; народные собрания получили вид заговоров.
При настоящем состоянии исторической науки исследование Монтескье представляется трудом очень легким, поверхностным; но не надобно забывать, что это была первая попытка вдуматься в причины явления. Мысль, возбуждаемая настоящим неудовлетворительным состоянием Франции, ищет разрешения важных вопросов настоящего в прошедшем, наиболее известном, ищет причин величия и гибели государств, имея в виду заветную цель – определение отношений свободы и власти, определение удовлетворительное, т. е. способное охранить государство, и среди объяснений поверхностных мыслитель приходит иногда к выводам, которые становятся ценным вкладом в науку. Таков, например, следующий вывод: «То, что называют единством, есть нечто очень неопределенное относительно тела политического. Истинное единство есть единство гармонии, состоящее в том, чтобы все части, как бы они противоположны ни казались, содействовали благу общему, как диссонансы в музыке содействуют общему согласию. Может существовать единство в таком государстве, которое, по-видимому, находится в беспокойном состоянии, тогда как в видимом покое азиатского деспотизма заключается действительное разделение: земледелец, воин, купец, начальствующее лицо, благородный связаны так, что одни притесняют других без сопротивления, и если здесь видят единство, то здесь не граждане соединены, а мертвые тела, погребенные одни подле других».
Монтескье Шарль Луи
Персидские письма
Шарль Луи Монтескье
Персидские письма
Из "Персидских писем" Ш.Л.Монтескье читатель узнает о дворцовых интригах, царящих в восточных империях и в Париже. Персы, странствующие по "варварским землям" Европы, описывают быт европейской жизни: все имеют любовников и любовниц, играют однажды взятые на себя роли, заглядывают в клубы, суетятся, интригуют. "...Если мы окажемся в качестве любовников..." заверяют перса Рику его собеседники-французы.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я не предпосылаю этой книге посвящения и не прошу для нее покровительства: если она хороша, ее будут читать, а если плоха, то мне мало дела до того, что у нее не найдется читателей.
Я отобрал эти письма, чтобы испытать вкус публики: у меня в портфеле есть много и других, которые я мог бы предложить ей впоследствии.
Однако я это сделаю только при условии, что останусь неизвестным, а с той минуты, как мое имя откроется, я умолкну. Мне знакома одна женщина, которая отличается довольно твердой походкой, но хромает, как только на нее посмотрят. У самого произведения достаточно изъянов; зачем же предоставлять критике еще и недостатки собственной моей особы? Если узнают, кто я, станут говорить: "Книга не соответствует его характеру; ему следовало бы употреблять время на что-нибудь лучшее; это недостойно серьезного человека". Критики никогда не упускают случая высказать подобные соображения, потому что их можно высказывать, не напрягая ума.
Персияне, которыми написаны эти письма, жили в одном со мной доме; мы вместе проводили время. Они считали меня человеком другого мира и поэтому ничего от меня не скрывали. Действительно, люди, занесенные из такого далека, не могли уже иметь тайн. Они сообщали мне большую часть своих писем; я их списывал. Мне попалось даже несколько таких, с которыми персияне остереглись бы познакомить меня: до такой степени эти письма убийственны для персидского тщеславия и ревности.
Я исполняю, следовательно, только обязанности переводчика: все мои старания были направлены на то, чтобы приспособить это произведение к нашим нравам. Я по возможности облегчил читателям азиатский язык и избавил их от бесчисленных высокопарных выражений, которые до крайности наскучили бы им.
Но это еще не все, что я для них сделал. Я сократил пространные приветствия, на которые восточные люди тороваты не меньше нашего, и опустил бесконечное число мелочей, которым так трудно выдержать дневной свет и которым всегда следует оставаться личным делом двух друзей.
Меня очень удивляло то обстоятельство, что эти персияне иной раз бывали осведомлены не меньше меня в нравах и обычаях нашего народа, вплоть до самых тонких обстоятельств, они подмечали такие вещи, которые - я уверен ускользнули от многих немцев, путешествовавших по Франции. Я приписываю это их долгому пребыванию у нас, не считая уж того, что азиату легче в один год усвоить нравы французов, чем французу в четыре года усвоить нравы азиатов, ибо одни настолько же откровенны, насколько другие замкнуты.
Обычай позволяет всякому переводчику и даже самому варварскому комментатору украшать начало своего перевода или толкования панегириком оригиналу: отметить его полезность, достоинства и превосходные качества. Я этого не сделал: о причинах легко догадаться. А самая уважительная из них та, что это было бы чем-то весьма скучным, помещенным в месте, уже самом по себе очень скучном: я хочу сказать - в предисловии.
ПИСЬМО I. Узбек к своему другу Рустану в Испагань
Мы пробыли в Коме{211} только один день. Помолившись у гробницы девы{211}, давшей миру двенадцать пророков, мы вновь пустились в путь и вчера, на двадцать пятый день после нашего отъезда из Испагани, прибыли в Тавриз{211}.
Мы с Рикой, пожалуй, первые из персиян, которые любознательности ради покинули отечество и, предавшись прилежным поискам мудрости, отказались от радостей безмятежной жизни.
Мы родились в цветущем царстве, но мы не верили, что его пределы в то же время пределы наших знаний и что свет Востока один только и должен нам светить.
Сообщи мне, что говорят о нашем путешествии; не льсти мне: я и не рассчитываю на общее одобрение. Посылай письма в Эрзерум{211}, где я пробуду некоторое время.
Прощай, любезный Рустан; будь уверен, что, в каком бы уголке света я ни очутился, я останусь твоим верным другом.
Из Тавриза, месяца Сафара{211} 15-го дня, 1711 года
ПИСЬМО II. Узбек к главному черному евнуху в свой сераль в Испагани
Ты верный страж прекраснейших женщин Персии; тебе я доверил то, что у меня есть самого дорогого на свете; в твоих руках ключи от заветных дверей, которые отворяются только для меня. В то время как ты стережешь это бесконечно любезное моему сердцу сокровище, оно покоится и наслаждается полной безопасностью. Ты охраняешь его в ночной тиши и в дневной сутолоке; твои неустанные заботы поддерживают добродетель, когда она колеблется. Если бы женщины, которых ты стережешь, вздумали нарушить свои обязанности, ты бы отнял у них всякую надежду на это; ты бич порока и столп верности.
Ты повелеваешь ими и им повинуешься; ты слепо исполняешь все их желания и столь же беспрекословно подчиняешь их самих законам сераля. Ты гордишься возможностью оказывать им самые унизительные услуги; ты с почтением и страхом подчиняешься их законным распоряжениям; ты служишь им, как раб их рабов. Но когда возникают опасения, что могут пошатнуться законы стыда и скромности, власть возвращается к тебе и ты повелеваешь ими, словно я сам.
Помни всегда, из какого ничтожества - когда ты был последним из моих рабов - вывел я тебя, чтобы возвести на эту должность и доверить тебе усладу моего сердца. Соблюдай глубокое смирение перед теми, кто разделяет мою любовь, но в то же время давай им чувствовать их крайнюю зависимость. Доставляй им всевозможные невинные удовольствия; усыпляй их тревогу; забавляй их музыкой, плясками, восхитительными напитками; увещевай их почаще собираться вместе. Если они захотят поехать на дачу, можешь повезти их туда, но прикажи хватать всех мужчин, которые предстанут перед ними по пути. Призывай их к чистоплотности - этому образу душевной чистоты. Говори с ними иногда обо мне. Мне хотелось бы снова увидеть их в том очаровательном месте, которое они украшают собою. Прощай.
Из Тавриза, месяца Сафара 18-го дня, 1711 года
ПИСЬМО III. Зашли к Узбеку в Тавриз
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Монтескье Шарль Луи
Персидские письма
Шарль Луи Монтескье
Персидские письма
Из "Персидских писем" Ш.Л.Монтескье читатель узнает о дворцовых интригах, царящих в восточных империях и в Париже. Персы, странствующие по "варварским землям" Европы, описывают быт европейской жизни: все имеют любовников и любовниц, играют однажды взятые на себя роли, заглядывают в клубы, суетятся, интригуют. "...Если мы окажемся в качестве любовников..." заверяют перса Рику его собеседники-французы.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я не предпосылаю этой книге посвящения и не прошу для нее покровительства: если она хороша, ее будут читать, а если плоха, то мне мало дела до того, что у нее не найдется читателей.
Я отобрал эти письма, чтобы испытать вкус публики: у меня в портфеле есть много и других, которые я мог бы предложить ей впоследствии.
Однако я это сделаю только при условии, что останусь неизвестным, а с той минуты, как мое имя откроется, я умолкну. Мне знакома одна женщина, которая отличается довольно твердой походкой, но хромает, как только на нее посмотрят. У самого произведения достаточно изъянов; зачем же предоставлять критике еще и недостатки собственной моей особы? Если узнают, кто я, станут говорить: "Книга не соответствует его характеру; ему следовало бы употреблять время на что-нибудь лучшее; это недостойно серьезного человека". Критики никогда не упускают случая высказать подобные соображения, потому что их можно высказывать, не напрягая ума.
Персияне, которыми написаны эти письма, жили в одном со мной доме; мы вместе проводили время. Они считали меня человеком другого мира и поэтому ничего от меня не скрывали. Действительно, люди, занесенные из такого далека, не могли уже иметь тайн. Они сообщали мне большую часть своих писем; я их списывал. Мне попалось даже несколько таких, с которыми персияне остереглись бы познакомить меня: до такой степени эти письма убийственны для персидского тщеславия и ревности.
Я исполняю, следовательно, только обязанности переводчика: все мои старания были направлены на то, чтобы приспособить это произведение к нашим нравам. Я по возможности облегчил читателям азиатский язык и избавил их от бесчисленных высокопарных выражений, которые до крайности наскучили бы им.
Но это еще не все, что я для них сделал. Я сократил пространные приветствия, на которые восточные люди тороваты не меньше нашего, и опустил бесконечное число мелочей, которым так трудно выдержать дневной свет и которым всегда следует оставаться личным делом двух друзей.
Меня очень удивляло то обстоятельство, что эти персияне иной раз бывали осведомлены не меньше меня в нравах и обычаях нашего народа, вплоть до самых тонких обстоятельств, они подмечали такие вещи, которые – я уверен ускользнули от многих немцев, путешествовавших по Франции. Я приписываю это их долгому пребыванию у нас, не считая уж того, что азиату легче в один год усвоить нравы французов, чем французу в четыре года усвоить нравы азиатов, ибо одни настолько же откровенны, насколько другие замкнуты.
Обычай позволяет всякому переводчику и даже самому варварскому комментатору украшать начало своего перевода или толкования панегириком оригиналу: отметить его полезность, достоинства и превосходные качества. Я этого не сделал: о причинах легко догадаться. А самая уважительная из них та, что это было бы чем-то весьма скучным, помещенным в месте, уже самом по себе очень скучном: я хочу сказать – в предисловии.
ПИСЬМО I. Узбек к своему другу Рустану в Испагань
Мы пробыли в Коме{211} только один день. Помолившись у гробницы девы{211}, давшей миру двенадцать пророков, мы вновь пустились в путь и вчера, на двадцать пятый день после нашего отъезда из Испагани, прибыли в Тавриз{211}.
Мы с Рикой, пожалуй, первые из персиян, которые любознательности ради покинули отечество и, предавшись прилежным поискам мудрости, отказались от радостей безмятежной жизни.
Мы родились в цветущем царстве, но мы не верили, что его пределы в то же время пределы наших знаний и что свет Востока один только и должен нам светить.
Сообщи мне, что говорят о нашем путешествии; не льсти мне: я и не рассчитываю на общее одобрение. Посылай письма в Эрзерум{211}, где я пробуду некоторое время.
Прощай, любезный Рустан; будь уверен, что, в каком бы уголке света я ни очутился, я останусь твоим верным другом.
Из Тавриза, месяца Сафара{211} 15-го дня, 1711 года
ПИСЬМО II. Узбек к главному черному евнуху в свой сераль в Испагани
Ты верный страж прекраснейших женщин Персии; тебе я доверил то, что у меня есть самого дорогого на свете; в твоих руках ключи от заветных дверей, которые отворяются только для меня. В то время как ты стережешь это бесконечно любезное моему сердцу сокровище, оно покоится и наслаждается полной безопасностью. Ты охраняешь его в ночной тиши и в дневной сутолоке; твои неустанные заботы поддерживают добродетель, когда она колеблется. Если бы женщины, которых ты стережешь, вздумали нарушить свои обязанности, ты бы отнял у них всякую надежду на это; ты бич порока и столп верности.
Ты повелеваешь ими и им повинуешься; ты слепо исполняешь все их желания и столь же беспрекословно подчиняешь их самих законам сераля. Ты гордишься возможностью оказывать им самые унизительные услуги; ты с почтением и страхом подчиняешься их законным распоряжениям; ты служишь им, как раб их рабов. Но когда возникают опасения, что могут пошатнуться законы стыда и скромности, власть возвращается к тебе и ты повелеваешь ими, словно я сам.
Помни всегда, из какого ничтожества – когда ты был последним из моих рабов – вывел я тебя, чтобы возвести на эту должность и доверить тебе усладу моего сердца. Соблюдай глубокое смирение перед теми, кто разделяет мою любовь, но в то же время давай им чувствовать их крайнюю зависимость. Доставляй им всевозможные невинные удовольствия; усыпляй их тревогу; забавляй их музыкой, плясками, восхитительными напитками; увещевай их почаще собираться вместе. Если они захотят поехать на дачу, можешь повезти их туда, но прикажи хватать всех мужчин, которые предстанут перед ними по пути. Призывай их к чистоплотности – этому образу душевной чистоты. Говори с ними иногда обо мне. Мне хотелось бы снова увидеть их в том очаровательном месте, которое они украшают собою. Прощай.
Из Тавриза, месяца Сафара 18-го дня, 1711 года
ПИСЬМО III. Зашли к Узбеку в Тавриз
Мы приказали начальнику евнухов отвезти нас на дачу; он подтвердит тебе, что с нами не случилось никаких происшествий. Когда нам пришлось переправляться через реку и выйти из носилок, мы, по обычаю, пересели в ящики; двое рабов перенесли нас на плечах, и мы избегли чьих бы то ни было взоров.
Как могла бы я жить, дорогой Узбек, в твоем испаганском серале, в тех местах, которые, непрестанно вызывая в моей памяти прошедшие наслаждения, каждый день с новой силой возбуждали мои желания? Я бродила из покоя в покой, всюду ища тебя и нигде не находя, но всюду встречая жестокое воспоминание о прошлом счастье. То оказывалась я в горнице, где в первый раз в жизни приняла тебя в свои объятия, то в той, где ты решил жаркий спор, загоревшийся между твоими женами: каждая из нас притязала быть красивее других. Мы предстали пред тобой, надев все украшения и драгоценности, какие только могло придумать воображение. Ты с удовольствием взирал на чудеса нашего искусства; ты радовался, видя, как увлекает нас неуемное желание понравиться тебе. Но вскоре ты пожелал, чтобы эти заимствованные чары уступили место прелестям более естественным; ты разрушил все наше творение. Нам пришлось снять украшения, уже докучавшие тебе; пришлось предстать перед тобою в природной простоте. Я откинула всякую стыдливость: я думала только о своем торжестве. Счастливец Узбек! Сколько прелестей представилось твоим очам! Мы видели, как долго переходил ты от восторга к восторгу: твоя душа колебалась и долго ни на чем не могла остановиться; каждая новая прелесть требовала от тебя дани: в один миг мы все были покрыты твоими поцелуями; ты бросал любопытные взгляды на места самые сокровенные; ты заставлял нас принимать одно за другим тысячу различных положений; ты без конца отдавал новые распоряжения, и мы без конца повиновались. Признаюсь, Узбек: желание понравиться тебе подсказывалось мне страстью еще более живой, чем честолюбие. Я понимала, что незаметно становлюсь владычицей твоего сердца; ты завладел мною; ты меня покинул; ты вернулся ко мне, и я сумела тебя удержать: полное торжество выпало на мою долю, а уделом моих соперниц стало отчаяние. Нам с тобою показалось, что мы одни на свете; окружающее было недостойно занимать нас. О! Зачем небу не угодно было, чтобы мои соперницы нашли в себе мужество быть простыми свидетельницами пылких выражений любви, которые я получила от тебя! Если бы они видели изъявления моей страсти, они почувствовали бы разницу между их любовью и моей: они бы убедились, что если и могли соперничать со мною в прелестях, то никак не могли бы состязаться в чувствительности...
Но где я? Куда заводит меня этот напрасный рассказ? Вовсе не быть любимой – несчастье, но перестать ею быть – бесчестье. Ты покидаешь нас, Узбек, чтобы отправиться в странствие по варварским землям. Неужели ты ни во что не ставишь счастье быть любимым? Увы, ты даже не знаешь, что теряешь! Я испускаю вздохи, которые никто не слышит; слезы мои текут, а ты не радуешься им; кажется, сераль дышит одной только любовью, а твоя бесчувственность непрестанно удаляет тебя от него!
Ах, возлюбленный мой Узбек, если бы умел ты наслаждаться счастьем!
Из сераля Фатимы, месяца Махаррама{213} 21-го дня, 1711 года
ПИСЬМО IV. Зефи к Узбеку в Эрзерум
В конце концов это черное чудовище решило довести меня до отчаяния. Он во что бы то ни стало хочет отнять у меня мою рабыню Зелиду, – Зелиду, которая служит мне так преданно, ловкие руки которой всюду вносят красоту и изящество. Мало того, что эта разлука огорчает меня: ему хочется еще и опозорить меня ею. Предатель считает преступными причины моего доверия к Зелиде; ему скучно за дверью, куда я его постоянно прогоняю, поэтому он смеет утверждать, будто слышал или видел такие вещи, которых я даже и вообразить не умею. Как я несчастна! Ни уединение, ни добродетель моя не могут меня уберечь от его нелепых подозрений; подлый раб преследует меня даже в твоем сердце, и даже там я вынуждена защищаться! Нет, я слишком уважаю себя, чтобы унизиться до оправданий: я не хочу другого поручителя за мое поведение, кроме тебя самого, кроме твоей любви, кроме любви моей и нужно ли говорить тебе об этом, дорогой Узбек, – кроме моих слез.
Из сераля Фатимы, месяца Махаррама 29-го дня, 1711 года
ПИСЬМО V. Рустан к Узбеку в Эрзерум
Ты у всех на устах в Испагани: только и говорят, что о твоем отъезде. Одни приписывают его легкомыслию, другие – какому-то огорчению. Только друзья защищают тебя, но им не удается никого разубедить. Люди не могут понять, как решился ты покинуть своих жен, родных, друзей, отечество, чтобы отправиться в страны, не известные персиянам. Мать Рики безутешна; она требует у тебя своего сына, которого – по ее словам – ты у нее похитил. Что касается меня, дорогой Узбек, то я, разумеется, расположен одобрять все, что ты делаешь, но не могу простить тебе твоего отсутствия, и какие бы ты доводы мне ни представил, мое сердце никогда их не примет. Прощай; люби меня.
Из Испагани, месяца Ребиаба 1{214}, 28-го дня, 1711 года
ПИСЬМО VI. Узбек к своему другу Нессиру в Испагань
На расстоянии одного дня пути от Испагани мы покинули пределы Персии и вступили в земли, подвластные туркам. Двенадцать дней спустя мы приехали в Эрзерум, где пробудем три-четыре месяца.
Должен признаться, Нессир: я ощутил тайную боль, когда потерял из виду Персию и очутился среди коварных османлисов{214}. По мере того как углублялся в страну этих нечестивцев, мне казалось, что и сам я становлюсь нечестивцем.
Отчизна, семья, друзья представлялись моему воображению; нежность во мне пробудилась; наконец, какая-то смутная тревога закралась мне в душу и я понял, что предпринятое мною будет мне стоить душевного покоя.
Больше всего удручает мне сердце мысль о моих женах; как только подумаю о них, печаль начинает терзать меня.
Не в том дело, Нессир, что я их люблю: в этом отношении я настолько бесчувствен, что у меня нет никаких желаний. В многолюдном серале, где я жил, я предупреждал любовь и поэтому ею же самою разрушал ее; но из самой моей холодности проистекает тайная ревность, пожирающая меня. Мне представляется сонмище женщин, почти предоставленных самим себе: за них отвечают предо мною только презренные души. Вряд ли я могу считать себя в безопасности, даже если рабы мне и верны. А что же будет, если они неверны? Какие печальные вести могут дойти до меня в те далекие страны, которые я собираюсь посетить! Это недуг, от которого друзья не могут мне дать лекарства; это область, печальные тайны которой они не должны знать. Да и чем могли бы они помочь? Ведь я тысячу раз предпочту тайную безнаказанность шумному искуплению. Я слагаю в твое сердце все мои печали, любезный Нессир; это единственное утешение, ныне остающееся мне.
Из Эрзерума, месяца Ребиаба 2{215}, 10-го дня, 1711 года
ПИСЬМО VII. Фатима к Узбеку в Эрзерум
Вот уже два месяца, как ты уехал, дорогой мой Узбек, и я в таком подавленном состоянии, что все еще не могу поверить этому. Я бегаю по всему сералю так, как если бы ты был здесь: и никак не могу убедиться, что тебя нет. Что же, по-твоему, должно происходить с женщиной, которая любит тебя, которая привыкла держать тебя в своих объятиях, у которой одна только была забота – доказать тебе свою нежность, с женщиной, свободной по происхождению, но рабыней в силу своей любви?
Когда я выходила за тебя, мои глаза еще не видели лица мужчины: ты и теперь еще единственный, лицезреть кого мне дозволено*, потому что я не считаю мужчинами отвратительных евнухов, наименьшим несовершенством которых является то, что они вовсе и не мужчины. Когда я сравниваю красоту твоего лица с безобразием их физиономий, я не могу не посчитать себя счастливой; воображение мое не в силах создать образа, более пленительного, более чарующего, чем ты, мой ненаглядный. Клянусь тебе, Узбек: если бы мне разрешили выйти отсюда, где я сижу взаперти благодаря моему положению, если бы я могла ускользнуть от окружающей меня стражи, если бы мне позволили выбирать среди всех мужчин, живущих в этой столице народов, Узбек, – клянусь тебе, – я выбрала бы только тебя. Во всем мире ты один заслуживаешь любви.
* Персидские женщины охраняются гораздо строже турецких и индусских.
Не думай, что в твое отсутствие я пренебрегаю красотой, которая дорога тебе. Хотя никому не суждено видеть меня и хотя украшения, которые я надеваю, не могут тебя порадовать, я все же стремлюсь сохранить привычку нравиться. Я ложусь в постель не иначе, как надушившись самыми восхитительными благовониями. Я вспоминаю блаженное время, когда ты приходил в мои объятия; обольстительный сон-угодник являет мне бесценный предмет моей любви; мое воображение туманится от желаний и тешит меня надеждами. Иногда я думаю, что тягостное путешествие наскучит тебе и ты скоро вернешься к нам; ночь проходит в сновидениях, которые и не явь и не сон; я ищу тебя подле себя, и мне кажется, будто ты ускользаешь от меня; в конце концов огонь, пожирающий меня, сам рассеивает эти чары и возвращает мне сознание. Тогда я испытываю такое волнение...
Ты не поверишь, Узбек: нельзя жить в подобном состоянии; огонь клокочет в моих жилах. Ах, почему не могу я выразить тебе того, что так хорошо чувствую? И почему чувствую я так хорошо то, чего не могу выразить? В такие минуты, Узбек, я бы отдала власть над миром за один твой поцелуй. Как несчастна женщина, снедаемая столь бурными желаниями, когда она лишена единственного человека, который может их удовлетворить; когда, предоставленная самой себе, не имея ничего, что могло бы ее рассеять, она вынуждена жить вздохами и неистовством бушующей страсти; когда, сама далеко не счастливая, она даже лишена радости служить счастью другого; когда она ненужное украшение сераля, охраняемое ради чести, а не ради счастья ее супруга!
Как вы, мужчины, жестоки! Вы радуетесь тому, что мы наделены страстями, которых не можем утолить; вы обращаетесь с нами так, словно мы бесчувственны, но вы очень гневались бы, если бы так было в действительности; вы рассчитываете на то, что наши желания, столь долго сдерживаемые, сразу оживятся при виде вас. Трудно внушить любовь; проще, полагаете вы, получить от нашей подавленной чувственности то, чего вы не надеетесь заслужить своими достоинствами.
Прощай, дорогой мой Узбек, прощай. Знай, что я живу только для того, чтобы обожать тебя; моя душа полна тобой, и разлука не только не затмила воспоминания о тебе, а еще более воспламенила бы мою любовь, если бы только она могла стать еще более страстной.
Из испаганского сераля, месяца Ребиаба 1, 12-го дня, 1711 года
ПИСЬМО VIII. Узбек к своему другу Рустану в Испагань
Твое письмо было мне вручено в Эрзеруме, где я теперь нахожусь. Я так и думал, что мой отъезд наделает шуму; но это не остановило меня. Чему же, по-твоему, мне следовать? Житейской мудрости моих врагов или моей собственной?
Я появился при дворе в пору самой нежной юности. Могу сказать прямо: мое сердце там не развратилось; я даже возымел великое намерение: осмелился при дворе остаться добродетельным. Как только я познал порок, я удалился от него, но вслед за тем приблизился к нему, чтобы его разоблачить. Я доводил истину до подножия трона, я заговорил языком, дотоле неведомым там; я обезоруживал лесть и изумлял одновременно и низкопоклонников и их идола.
Но когда я убедился, что моя искренность создала мне врагов; что я навлек на себя зависть министров, не приобретя благосклонности государя; что при этом развращенном дворе я держусь только слабой своей добродетелью, – я решил его покинуть. Я притворялся, будто сильно увлечен науками, и притворялся так усердно, что и в самом деле увлекся ими. Я перестал вмешиваться в какие бы то ни было дела и удалился в свое поместье. Но это решение имело и отрицательные стороны: я был предоставлен козням врагов и почти лишился возможности ограждать себя от них. Несколько тайных предупреждений побудило меня серьезно подумать о себе. Я решил удалиться из отечества, а мой уход от двора доставил мне для этого благовидный предлог. Я пошел к шаху, сказал ему о своем желании познакомиться с западными науками, намекнул, что он может извлечь пользу из моих странствований. Он отнесся ко мне благосклонно, я уехал и тем самым похитил жертву у моих врагов.
Вот, Рустан, истинная причина моего путешествия. Пусть Испагань толкует, что хочет: защищай меня только перед теми, кто меня любит; предоставь моим врагам истолковывать мои поступки, как им вздумается; я слишком счастлив тем, что это единственное зло, которое они не могут причинить.
Сейчас обо мне говорят. Но не ожидает ли меня в скором времени полное забвение и не станут ли мои друзья... Нет, Рустан, я не хочу предаваться этой печальной мысли: я всегда останусь им дорог; я рассчитываю на их верность – так же как и на твою.
Из Эрзерума, месяца Джеммади 2{217}, 20-го дня, 1711 года.
ПИСЬМО IX. Первый евнух к Ибби в Эрзерум
Ты следуешь за своим господином в его странствиях; ты проезжаешь область за областью и царство за царством; печали бессильны над тобою; каждый миг ты видишь новое; все, что ты наблюдаешь, развлекает тебя, и время бежит для тебя незаметно.
Иное дело я; я заперт в отвратительной тюрьме, постоянно окружен одними и теми же предметами и терзаюсь одними и теми же печалями. Я стенаю, удрученный бременем пятидесяти годов, проведенных в заботах и тревогах, и не могу сказать, что в течение моей долгой жизни мне выпал хоть один ясный день и хоть один спокойный миг.
Когда мой первый господин возымел жестокое намерение доверить мне своих жен и принудил меня с помощью соблазнов, подкрепленных тысячью угроз, навсегда расстаться с самим собою, я был уже очень утомлен службою на крайне тягостных должностях и рассчитывал, что пожертвую своими страстями ради отдохновения и богатства. Несчастный! Мой удрученный ум являл мне только награду, но не потерю: я надеялся, что освобожусь от волнений любви благодаря тому, что лишусь возможности удовлетворять ее. Увы! Во мне погасили следствие страстей, не затушив их причины, и, вместо того, чтобы избавиться от них, я оказался окруженным предметами, которые беспрестанно их возбуждали. Я поступил в сераль, где все внушало мне сожаление о моей утрате: ежеминутно я ощущал волнение чувств; тысячи природных красот раскрывались предо мною, казалось, только для того, чтобы повергнуть меня в отчаяние. К довершению несчастья у меня перед глазами всегда был счастливец. В эти годы смятения всякий раз, как я сопровождал женщину к ложу моего господина, всякий раз, как я раздевал ее, я возвращался к себе с яростью в сердце и со страшной безнадежностью в душе.
Вот как провел я свою жалкую юность. У меня не было наперсников, кроме меня самого, мне приходилось преодолевать тоску и печаль собственными силами. И на тех самых женщин, на которых мне хотелось смотреть с нежностью, я бросал только суровые взоры. Я погиб бы, если бы они разгадали меня. Какой бы только выгоды они не извлекли из этого!
Помню, как однажды, сажая женщину в ванну, я почувствовал такое возбуждение, что разум мой помутился и я осмелился коснуться некого страшного места. Придя в себя, я подумал, что настал мой последний день. Однако мне посчастливилось, и я избежал жесточайшего наказания. Но красавица, ставшая свидетельницей моей слабости, очень дорого продала мне свое молчание: я совершенно утратил власть над нею, и она стала вынуждать меня к таким поблажкам, которые тысячи раз подвергали жизнь мою опасности.
Наконец, пыл юности угас, теперь я стар и в этом отношении совершенно успокоился; я смотрю на женщин равнодушно и возвращаю им с избытком то презрение и те муки, которым они подвергали меня. Я все время помню, что был рожден, чтобы повелевать ими, и в тех случаях, когда я ими еще повелеваю, мне кажется, что я вновь становлюсь мужчиной. Я ненавижу их с тех пор, как начал взирать на них хладнокровно и как мой разум стал ясно видеть все их слабости. Хотя я охраняю их для другого, сознание, что они должны подчиняться моей воле, доставляет мне тайную радость: когда я подвергаю их всяческим лишениям, мне кажется, будто я делаю Это для себя, и от этого я испытываю косвенное удовлетворение. Я чувствую себя в серале, как в своем маленьком царстве, и это льстит моему самолюбию, а самолюбие – единственная оставшаяся мне страсть. Я с удовольствием вижу, что все держится на мне и что я нужен поминутно. Я охотно принимаю на себя ненависть всех этих женщин: она укрепляет меня на моем посту. Но и я не остаюсь в долгу: они встречают во мне помеху всем своим удовольствиям, даже самым невинным. Я всегда вырастаю перед ними, как непреодолимая преграда; они строят планы, а я их неожиданно расстраиваю. Мое оружие – отказ; я ощетиниваюсь придирками; на устах у меня нет других слов, кроме как о долге, добродетели, стыдливости, скромности. Я привожу их в уныние, беспрестанно твердя им о слабости их пола и о власти их господина. Вслед за тем я начинаю сетовать, что вынужден быть столь суровым, и делаю вид, будто хочу растолковать им, что нет у меня другого побуждения, кроме их же собственной выгоды и моей великой привязанности к ним.
Но, конечно, и у меня бывает множество неприятностей, а мстительные женщины все время изощряются, как бы причинить мне еще большие огорчения, чем те, которые я причиняю им. Они умеют наносить страшные удары. Между нами происходит как бы прилив и отлив власти и подчинения. Они постоянно взваливают на меня самые унизительные обязанности; они выражают мне беспримерное презрение и, не считаясь с моей старостью раз по десять поднимают меня ночью из-за малейшей безделицы. На меня беспрестанно сыплются приказания, поручения, обязанности, прихоти; женщины словно нарочно сговариваются задавать мне работу, и их причуды сменяют одна другую. Часто они забавляются тем, что требуют от меня все новых и новых забот; они подучивают людей сообщать мне ложные сведения: то мне говорят, будто подле стен сераля появился какой-то юноша, то, что слышен какой-то шум или что кому-то собираются передать письмо. Все это тревожит меня, а они смеются над моей тревогой; они радуются, когда видят, как я таким образом сам себя мучаю. Иногда они держат меня за дверью и принуждают день и ночь быть прикованным к ней; они ловко притворяются больными, разыгрывают обмороки и страхи; у них нет недостатка в предлогах, чтобы завести меня, куда им угодно. В подобных случаях необходимо слепое повиновение и безграничная снисходительность: отказ в устах такого человека, как я, был бы чем-то неслыханным, и если бы я замешкался в послушании, они были бы вправе меня наказать. Я предпочитаю скорее расстаться с жизнью, дорогой мой Ибби, чем опуститься до такого унижения.
Это еще не все; я ни одной минуты не уверен в благосклонности моего господина: так много здесь женщин, близких его сердцу, зато враждебных мне и думающих только о том, как бы погубить меня. Им принадлежат минуты, когда они могут не слушаться меня, минуты, когда им ни в чем не отказывают, минуты, когда я всегда буду неправ. Я провожаю в постель моего господина женщин, рассерженных на меня: и ты думаешь, они действуют в мою пользу и сила на моей стороне? Я всего могу ожидать от их слез, их вздохов, их объятий и даже от их наслаждений: ведь они находятся на месте своего торжества. Их прелести становятся опасными для меня; их услужливость в эту минуту мгновенно стирает все мои прошлые заслуги, и ничто не может мне поручиться за господина, который сам себе больше не принадлежит.
Сколько раз случалось мне отходить ко сну, будучи в милости, а поутру вставать в опале! Что сделал я в тот день, когда меня с таким позором гоняли кнутьями по всему сералю? Я оставил одну из жен в объятиях моего господина. Как только он воспламенился, она залилась потоками слез, стала жаловаться на меня, и притом так ловко, что жалобы становились все трогательнее по мере того, как росла пробужденная ею страсть. На что мог я опереться в такую трудную минуту? Я погибал в то время, когда меньше всего этого ожидал; я пал жертвою любовных переговоров и союза, заключенного вздохами. Вот, дорогой Ибби, в каком жестоком положении прожил я всю жизнь.
Какой ты счастливец! Твои заботы ограничиваются особой самого Узбека. Тебе легко угождать ему и сохранить его расположение до конца дней твоих.
Из испаганского сераля, в последний день месяца Сафара 1711 года
ПИСЬМО X. Мирза к своему другу Узбеку в Эрзерум
Ты один мог бы возместить мне отсутствие Рики, и только Рика мог бы утешить меня в твое отсутствие. Нам недостает тебя, Узбек: ты был душою нашего общества. Сколько силы нужно, чтобы порвать связи, созданные сердцем и умом!
Мы здесь много спорим; наши споры вращаются обычно вокруг морали. Вчера предметом обсуждения был вопрос, бывают ли люди счастливы благодаря наслаждениям и чувственным радостям или благодаря деятельной добродетели. Я часто слышал от тебя, что люди рождены, чтобы быть добродетельными и что справедливость – качество, присущее им так же, как и самое существование. Разъясни, прошу тебя, что ты этим хочешь сказать.
Я разговаривал с муллами, но они приводят меня в отчаяние выдержками из Алкорана: ведь я говорю с ними не в качестве правоверного, но как человек, как гражданин, как отец семейства. Прощай.
Из Испагани, в последний день месяца Сафара 1711 года
ПИСЬМО XI. Узбек к Мирзе в Испагань
Ты отказываешься от своего рассудка, чтобы обратиться к моему; ты снисходишь до того, что спрашиваешь моего совета; ты считаешь, что я могу наставлять тебя. Любезный Мирза! Есть нечто еще более лестное для меня, нежели хорошее мнение, которое ты обо мне составил: это твоя дружба, которой я обязан таким мнением.
Чтобы исполнить то, что ты мне предписываешь, я не вижу надобности прибегать к слишком отвлеченным рассуждениям. Существуют истины, в которых недостаточно убедить кого-либо, но которые надо дать почувствовать; именно таковы истины морали. Может быть, нижеследующий отрывок из истории тронет тебя больше, чем самая проникновенная философия.
Существовало некогда в Аравии небольшое племя, называвшееся троглодитским; оно происходило от тех древних троглодитов, которые, если верить историкам, походили больше на зверей, чем на людей. Наши троглодиты вовсе не были уродами, не были покрыты шерстью, как медведи, не рычали, имели по два глаза, но они были до такой степени злы и свирепы, что не было в их среде места ни началам правосудия, ни началам справедливости.
У них был царь, чужестранец по происхождению, который, желая исправить их злобную природу, обращался с ними сурово; они составили против него заговор, убили его и истребили всю царскую семью.
Затем они собрались, чтобы выбрать правительство, и после долгих разногласий избрали себе начальников. Но едва только должностные лица были избраны, как стали ненавистными троглодитам и тоже были ими перебиты.
Народ, освободившись от нового ига, теперь слушался только своей дикой природы. Все условились, что никому не будут более подчиняться, что каждый будет заботиться лишь о собственной своей выгоде, не считаясь с выгодой других.
Единодушное это решение пришлось по вкусу всем троглодитам. Каждый говорил: зачем изводить себя работой на людей, до которых мне нет никакого дела? Буду думать только о себе. Стану жить счастливо: что мне за дело до того, будут ли счастливы и другие? Я буду удовлетворять все свои потребности; лишь бы у меня было все нужнее, – не моя забота, что прочие троглодиты будут бедны.
Настал месяц, когда засевают поля. Каждый говорил: я обработаю свое поле так, чтобы оно дало мне хлеба, сколько мне нужно; большее количество мне ни к чему; не буду трудиться зря.